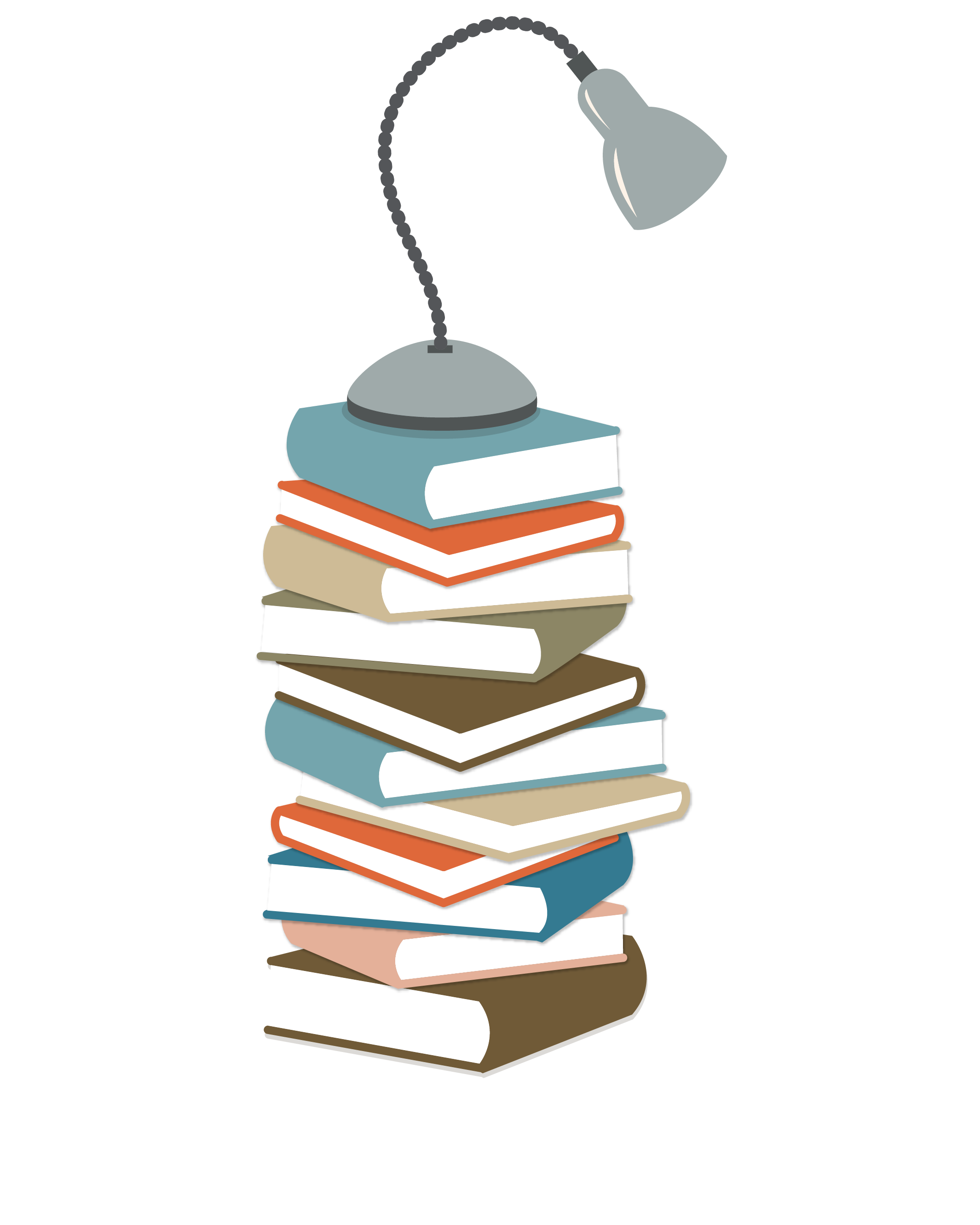Мы узнаем — Школа для дураков — краткое содержание романа Соколова. Подсказки школьнику
Произведение относится к сюрреалистическому жанру литературы и в качестве главного героя романа представляет ученика, проходящего обучение в учреждении для слабоумных детей.
Персонаж описывается автором в качестве ребенка, отличающегося от других учеников талантом избирательной памяти в виде запоминания тех событий, которые удивляют его необычное воображение. Ребенок предпочитает препровождение времени совместно с родителями за городом в окружении природы.
Бабушка героя в свое время также теряет память в случае восхищения красивым явлениями. Поэтому в представлении героя его заболевание является наследственной болезнью.
Доктора рекомендуют родителям мальчика не осуществлять выезды на природу, поскольку в этот период происходит обострение заболевания. Однако ребенок не желает прислушиваться к врачебным советам, поскольку не представляет собственное существование в отсутствии красивых созерцаний.
Одним из проявлений его заболевания представляется в виде раздвоения личности, при котором герой беседует с самим собой в другом измерении. При этом сознание мальчика колеблется в пределах некой безумности и одаренности в сочетании со смешным и трагичным. Таким образом, ребенок ощущает временную относительность, поскольку для него отсутствует понятие времени, в его чувствах жизненное существование является беспрерывным в бесконечном пространстве.
По мнению докторов, данные способности ребенка относятся к болезненным проявлениям, при которых происходит полное растворение человека в окружающем мире.
У мальчика возникает чувство влюбленности к учительнице ботаники, отец которой в прошлом является арестованным в связи с неординарностью идей, а впоследствии освобожден и проживает в тех же местах, где располагается дача мальчика.
Герой мечтает в будущем о профессии инженера и заключении брака с учительницей ботаники, но понимает, что его желания никогда не осуществятся.
Любимым учителем мальчика является преподаватель географии по имени Павел Петрович Норвегов, живущий неподалеку от героя. По своему характеру мужчина является близким по духу к ребенку человеком, поскольку не приемлет условности, предпочитая свободное и справедливое существование.
В один из дней в учебном заведении вводятся новые школьные требования в виде обязанности учеников иметь запасную обувь, хранящуюся в мешочке, имеющим логотип школы для слабоумных. Введение унизительной для учеников системы становится результатом увольнения географа. При этом главный герой предпринимает попытки протеста, однако система оказывается более сильной, шантажируя мальчика помещением в лечебницу.
Норвегов проводит последний урок с детьми, на прощание рассказывая ребятам легенду о плотнике, мечтающем о строительстве в пустынях. Некие люди обещают плотнику предоставление необходимых для строительства материалов, однако для этого они ставят ему условие, заключающееся в размещении гвоздей в руках человека, распятого на кресте. Плотник соглашается на этот неблаговидный поступок, но впоследствии осознает, что производит распятие самого себя.
Спустя время учитель географии умирает, а мальчик обещает себе придерживать принципов любимого преподавателя.
Сочинения
Сегодня нам задали сочинение по обществознанию за 7 класс, и я с удовольствием приступаю к написанию работы по теме: Моя любимая школа. Ведь мне есть что сказать.
Моя любимая школа
Это не первое мое сочинение о школе, ведь до этого я писала о ней в 4 и 5 классах, однако жизнь идет, меняется, и в нашей школе также происходят изменения, которые мы замечаем ежегодно первого сентября. Так что же для меня значит моя школа?
Еще в первом классе учитель сказал нам о том, что школа станет для нас вторым домом. И он оказался прав. Сегодня я понимаю, для меня, как и для моих одноклассников, школа стала больше чем просто место получения общего образования. Это поистине прекрасное место, где мы отыскали друзей, повстречали первую любовь, полностью погрузились в школьный быт, участвуя в самых разных мероприятиях. В стенах школы мы впервые встретились с трудностями, научились с ними справляться и радоваться маленьким победам.
Моя школа — это не просто одна из ступеней в жизни, это действительно второй дом, где все учителя и ученики, как одна большая семья. Готовая поддержать, помочь, объяснить и научить.
В целом, наша школа не самая большая в городе, но она светлая и уютная. Учителя и технический персонал делают все для того, чтобы в каждом кабинете мы чувствовали себя как дома. А мы в этом им помогаем, поддерживая чистоту.
С каждым годом мы замечаем, как развивается школа, как в ней появляется новое оборудование, открываются компьютерные классы и приходят новые умы в лице молодых специалистов. Кстати, многие из них когда-то были выпускниками нашей школы.
Моя школа описание
Моя школа, как и многие другие, начинается с гардероба, а далее по коридору разбросаны классы, где на первом этаже располагается начальная школа, а этажами выше расположились кабинеты для старшеклассников. Именно здесь и интереснее всего. Переступая порог конкретного класса, мы попадаем в разные миры. Например, заглянув в класс по литературе и русскому языку, мы попадаем в поэтический мир, и погружаемся в атмосферу произведений разных писателей. Переступая кабинет химии или физики, мы попадаем в атмосферу волшебства, где необъяснимое становится понятным. И так можно сказать о каждом классе.
![]()
Кроме этого в моей школе имеется просторная столовая, красивый спортивный зал, где не только проходят занятия по физической подготовке, но и празднуют Новый год, и отмечают другие события, связанные с жизнью школы.
Особенно мне нравится наша школьная библиотека. Здесь еженедельно проходят литературные дни, а любители поэзии читают стихи. Это могут быть стихотворения знаменитых поэтов, а могут быть персональные стихотворения, написанные нашими учениками.
В школе имеется кабинеты медсестры и психолога, который помогает ученикам адаптироваться и справиться со своими проблемами.
Я считаю, что моя школа одна из лучших, и в будущем с ностальгией буду вспоминать о беззаботных школьных днях. Но это будет в будущем, а сегодня я полноценно участвую в школьной жизни и наслаждаюсь этим быстротечным школьным периодом.
Сочинение на тему Моя школа
А какую оценку поставите вы?
Рецензии на книгу «Школа для дураков» Саша Соколов
Вуглускры
Вы же знаете, почему филологи любят вуглускров? Как в старой недоброй оригинальной шутке, в этом романе тоже всё — не то, чем кажется или слышится. В нём можно услышать два голоса — но это будет один человек. Можно увидеть романтический бунт учителя географии — но географ мёртв, и это не более чем фантазия. Можно прочитать текст, будто бы написанный от лица мальчика, который отстаёт в развитии и всё же чувствителен к красоте и уродству мира и способен задавать взрослым неудобные и проницательные вопросы, — но поверить в это будет сложно, потому что книга — очень художественный вымысел. Очень художественный вымысел. Именно так я ответила подруге, когда она спросила, что за книга несколько дней так вопиюще беспомощно лежит у меня на столе. Я действительно не знала, как подступиться к прочитанному, как его уложить в рамки собственного опыта и вообще — надо ли его туда укладывать, не лучше ли расширить понимание? Даже если взять банальнейший пример — книги про людей с диссоциативным расстройством личности, — никогда мне ещё не встречалось расстройство идентичности в настолько поэтическом
ключе. Но мой мгновенный ответ подруге оказался ответом в первую очередь себе. Хотя книга написана довольно правдоподобно, хотя уровень развития главного героя (героев) не вызывает сомнения, как и боль его (их) матери, равнодушие отца (их) его, условия учёбы в школе для дураков, влюблённость и прочее, — единственное, во что нельзя поверить, так это в то, что такой человек мог быть (тут-то и начинается художественный вымысел) писателем или поэтом.
Но только поэтом его (их) и можно назвать. Он (они) сам выбрал себе имя — Нимфея Альба, — имя лилии, которой любовался столь самозабвенно и которой стал. Он (они) полюбил женщину и мечтал о романтически нереальном: «чтобы жили они долго и счастливо». Он (они) много читал, придумывал сюжеты и истории, познавал мир на свой лад, зацикливался на чём-то (привет, ОКР), чему-то учился, но по большему счёту — был устремлён в будущее, потому что настоящее причиняло ему (им) боль. И когда автор заговорил с ним (ними),
Так и сказал автору.
Автор последовал совету своего персонажа и писал только о нём. (Кстати, если говорить о персонаже, то это «он» или всё-таки тоже «они»?) Более того, автор писал так, как писал бы сам Нимфея, — то есть человек в состоянии психического расстройства. А может, наоборот: так, чтобы свести читателя с ума; во всяком случае, меня бесконечные перечисления пару раз довели до ручки. Конечно, однородные члены предложения — это такой специфический художественный приём, кажется, ещё Умберто Эко его часто использовал. Но приём этот, клянусь душой, честью, свободой, хорошим настроением и сегодняшним ужином, — антигуманный. Я слушала книгу и страдала, и, так как перенесённые страдания меня не облагородили, в конце концов поставила «Школе для дураков» оценку не слишком высокую, хотя она и понравилась мне, и впечатлила, и навела на интересные мысли. Дочитав книгу, я первым делом постаралась забыть все перечисления.
А может быть, дело действительно в памяти? И у автора не было коварной цели заставить читателя страдать? Может быть, книга написана так, как написана, чтобы её герой (герои) смог вопреки избирательной памяти сохранить хоть какие-то воспоминания? Оттого и повторяет он (они) всё на свете? Не знаю. Уже не помню. В одно ухо влетело, в другое — вылетело, благо, с аудиокнигой это проще пареной репы.
Между прочим, именно благодаря Валерии Лебедевой чтение (точнее, слушание аудиокниги) давалось мне намного легче, чем если бы я читала сама (а я пробовала, даже книгу в библиотеке раздобыла). Лебедева не только гипнотическими перечислениями вводила меня в кататонический транс, позволяя почувствовать себя на месте любого дурака из спецшколы, но и выделяла голосами обе личности центрального персонажа, облегчая понимание самого лучшего и самого умного «дурака» («дураков»), единственного (дважды единственного?) среди всех, кто был достоин, чтобы о нём (них) писали книгу. Впрочем, я ведь уже говорила, что здесь всё не то, чем кажется? Не книга, а натуральный смысловой вуглускр (вот вам ссылка, в конце-то концов). Меня же, тихо батарея, котятки грустные больны, зеленоглазые соски, не тормози, не тормози, свет далёких планет, нам снимали по ночам, синий зад, синий зад, белым сном деревья спят, за честь коровы мы умрём, этим дышат и этим живут жестокие серые мыши…
Школа для дураков
Каждый из персонажей персонифицирует какую-то одну человеческую слабость стяжательство, дурные манеры, бражничество, прелюбодеяние, зависть и т. Персонажи Бранта лишены индивидуальности имен, биогра фий, характеров , так как образ создается исключительно тем, что наделяется всепоглощающей страстью. Герой не выступает в повествовании водиночестве, а всегда в сообществе ему подобных.
Галерея образов дураков многолика. Это и дурачки-старички, обучающие молодых всяческому вздору; это и волокиты, готовые терпеть любые издевки плутовки Венеры; это и сплетники, интриганы и склочники. На корабле находятся и самовлюбленные, подхалимы, игроки, врачи-шарлатаны и представители других профессий. Автор старается не упустить ни одно человеческое прегрешение. Поскольку глупость персонажа всегда гиперболизирована, то образ получается шаржированным или даже карикатурным.
Автор венчает дураков колпаком с бубенчиками и частенько именует то одного, то другого Гансом-дурнем. Нередки у Бранта и сравнения свихнувшихся глупцов с ослами. Вместе с тем обилие и разнообразие героев свидетельствует об основательности автора, досконально изучившего частную и общественную жизнь Германии накануне Реформации.
Его сатира носит антикатолический и антибуржуазный характер. Его герои защищены от расплаты за содеянное индульгенциями. Девизом церкви стало правило: хочешь грешить- плати.
Вот почему, полагает Брант, зло остается безнаказанным. Богачу в любой компании обеспечено самое почетное место.
Завладеть им спешат корыстолюбцы, ростовщики, перекупщики, мошенники и нищие. Автор не делает различия между чертой характера и профессией, так как все его герои жаждут наживы. Напротив, ему милы люди скромные, честные и бедные. В антиподах собственников усматриваются те добродетели, за которые будут ратовать Лютер и его последователи,- трудолюбие, умеренность, смирение. Особенности средневекового героического эпоса. Вбегает паж королевы. Он рассказывает, что в городе беспорядки. Какой-то незнакомый ему человек во главе толпы — ряженых, в масках,…
Через семь… Во время охоты брат короля инфант дон Энрике падает с… Он с детства знает три… За дракой наблюдает весь двор… Но передо мной — Россия: та, которую видели в устрашающих… В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая — горничная, румяная… Время сознательно не уточняется. В центре повествования находятся три семейства — Профитандье, Молинье и Азаисы-Ведели.
С ними тесно… Матросы убирают, моют, скребут и чистят палубу: на военном судне начинается день. Вдруг раздался громкий тревожный… Но его болезнь отличается от того состояния, в котором пребывает большинство его одноклассников. В отличие от… У стола с сосредоточенным видом сидят Мистики обоего пола в сюртуках и модных… Старый врач-материалист Крупов из многолетнего опыта своей лечебной практики, из общих наблюдений над жизнью людей делает заключение, что человечество больно…
Главный ее персонаж, крестьянин Кнемон, в конце жизни изуверился в людях и возненавидел буквально весь мир. Сыном этого Атрея был знаменитый вождь греков в Троянской войне Агамемнон — тот,… Его нимало не смущало, что в том городе, куда…
Школа для дураков
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны постулировать объективное существование этого «самого дела», отличающегося от «дел» воображаемых, иллюзорных или вымышленных, — а для рассказчика это вопрос не очевидный: Леонардо да Винчи во рву Миланского замка существует в этом тексте на равных правах (и в одной и той же онтологически неопределённой реальности) с деревенским почтальоном, едущим на велосипеде по дачному посёлку. Если всё же попытаться вычленить некоторое единство места и времени — то, видимо, действие романа сконцентрировано в подмосковной дачной местности, все впечатления рассказчика, связанные с дачной жизнью и обучением в интернате, относятся к условному «сейчас», упоминания о пребывании в психиатрической лечебнице, уроках игры на аккордеоне или поездках на кладбище на могилу бабушки можно причислить к «воспоминаниям», а внезапно возникающие, крайне детализированные описания «взрослой жизни» — отнести к фантазиям или к проявлениям одной из конфликтующих личностей повествователя. Философ Вадим Руднев, анализируя текст «Школы», полагает, что круг воображаемых событий в тексте гораздо шире: он выделяет линию галлюцинаторных персонажей, которых можно отличить по наличию у них двух фамилий — это почтальон Михеев (Медведев; косвенным образом к нему относится и медведь, издающий звук «скирлы»), соседка (она же завуч) Трахтенберг (Тинберген), учитель Норвегов, который то Павел, то Савл, наконец, Роза Ветрова, один из предметов страсти рассказчика, которая, во-первых, мертва, во-вторых, вообще никогда не существовала. Реальными, по Рудневу, являются только мать и отец рассказчика.
Локализовать условно «настоящее» место действия позволяет и вставная глава «Теперь. Рассказы, написанные на веранде»: она состоит из коротких новелл, написанных предельно сжато и минималистично, эта наивно-протокольная манера напоминает о повести Леонида Добычина «Город Эн». По некоторым повторяющимся приметам можно судить, что действие здесь происходит в той же местности, что и события основной части романа; рассказчиков, от лица которых написаны новеллы, можно соотнести с действующими лицами основной части. Эта глава одновременно «наводит порядок» в романном хронотопе и делает условными все остальные утверждения относительно текста, — видимо, такая вставная часть понадобилась Соколову, чтобы внести элемент неопределённости и в сам ход романа. Чуть только читатель привыкает к стремительно несущемуся потоку речи и к двоящейся фигуре рассказчика, как тут же сталкивается с фрагментом прозы, очевидно написанной с другой повествовательной позиции, в иной оптике и другом стиле.
И всё же: где именно находится эта местность и когда происходит действие — остаётся неясным. В тексте практически отсутствуют детали, позволяющие привязать его к конкретному времени. Детали школьного и дачного быта позволяют предположить, что это советские, а ещё точнее, послевоенные годы. На первых страницах говорится, что жители посёлка спешат со станции в свои дома, где среди прочего смотрят телевизор. Об академике Акатове мы узнаём, что «люди в заснеженных пальто» куда-то надолго его уводили и били в живот, а потом отпустили и выдали поощрительную премию — речь определённо идёт о случившемся относительно недавно освобождении из лагеря. Относительно массовое распространение телевещания и всё ещё свежая память о послесталинской реабилитации позволяет предположить, что дело происходит в начале или середине 1960-х. Точное же место действия определить и вовсе невозможно; единственная конкретная географическая деталь — протекающая рядом с посёлком река Лета — сразу отправляет нас из подмосковного посёлка на границу между мирами, зримым и потусторонним (на которой в каком-то смысле постоянно находится рассказчик). Сам Соколов в интервью говорил, что как раз и пытался изобразить дачную жизнь вообще: «Для меня Подмосковье всегда было больше чем Москва, поэтому можно сказать, что я в своём первом романе признался в любви к подмосковной природе. В детстве я жил в разные годы на разных дачах, так что определённого места нет. Ну, киевское направление, белорусское… Дачная жизнь — типичное явление, моё детство и юность ничем необычным не отличались от любого другого».
Оживший язык
Главной преградой для Саши Соколова был сам язык. Его «Школу для дураков» нельзя было писать словами, хотя ничего другого автору, понятно, не оставалось.
Язык разворачивает текст в линейное повествование. Если вначале было слово, то вслед за ним должно появиться другое, вызванное не только волей автора, но и грамматической необходимостью.
Слева направо, сверху вниз, от первой страницы до последней — сама техника письма диктует автору жесткую схему, в которой безобидные «раньше» и «позже» перерастают в грозную для свободы автора связь: после значит вследствие.
Бунтуя против этого, Саша Соколов написал «одновременную» книгу, антикнигу, где лагинация и переплет нужны не автору, а типографии.
«Школа для дураков» напоминает живопись, картину или — точнее — голографическое изображение, где запечатленные объекты зависят от угла зрения. Хотя элементы голограммы раз и навсегда застыли в стеклянном плену, мы, приближаясь или отходя от изображения, заставляем их двигаться, оживать.
Именно в такой ситуации оказался рассказчик «Школы для дураков»: он бродит вокруг своей книги, останавливаясь там, где ему заблагорассудится.
Чтобы предотвратить разворачивание текста в книгу, Соколову необходимо было преодолеть зависимость от языковых структур. Он решился на своеобразную вивисекцию языка.
«Школа для дураков» написана особым методом, с которым автор позаботился ознакомить читателя с первых страниц.
Прежде всего он расставил по тексту предупредительные, вроде бакенов, знаки, напоминающие о том, что все слова делятся на два вида. Есть слова свободнорожденные, а есть — искусственные, механически составленные и потому пустые, случайные. Первые живут органической жизнью — в них, как в семени, заключена внутренняя энергия роста. Вторые — продукт общественного договора. Первые — от Бога, вторые — от людей. Первым доверять можно и нужно, вторым — ни в коем случае.
К ложным словам относятся все, что пишутся с большой буквы: «Можно придумать условную фамилию, они — как ни крути — все условные, даже если настоящие».
Имя, название для Соколова — всегда бессмысленно и случайно. Поэтому автор, задаваясь вопросом, «как река называлась», вместо ответа прибегает к умолчанию: «река называлась».
Всюду, где может, Соколов ставит вместо имени местоимения или описательные названия: «Начальник Такой-то», или «Те, кто Пришли». Но и там, где у него появляются имена собственные, они никогда не застывают, в окончательной, как в паспорте, форме, они всегда протеичны: Савл-Павел, Медведев-Михеев, «река называлась».
Истребляя механические, придуманные слова, Соколов с доверием относится к другим словам — живым, естественным.
(Вспомним те одиннадцать глаголов-исключений из второго спряжения, которые автор сделал эпиграфом-метрономом: «Гнать, держать, бежать, обидеть, слышать, видеть и вертеть, и дышать, и ненавидеть, и зависеть, и терпеть».)
Например, расчленив слово «иссякнуть», он обнаружил в нем подходящий обрубок — «сяку». Отсюда уже родилась и целая гравюра в стиле Хокусая — с заснеженным пейзажем («В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дзе») и обратившимися в японцев путейцами Муромацу и Цунео-сан.
Все слова у Соколова — беременны. Язык для него экспериментальная делянка, на которой он выращивает свои образы, сад, в котором он срывает цветы для икебаны, не стесняясь, как и изобретатели этого искусства, подчинять их естественную форму своим художественным задачам: «на почве — на почте — на почтамте — почтимте — почтите — почуле — почти что».
Наделяя смыслом служебные фонетические и грамматические формы, Соколов оживляет язык: «что выражено» и «чем выражено» сливаются воедино.
Иллюстрацией этого процесса служит одна из центральных метафор книги — мел. В пространном отступлении Соколов создает картину-праобраз своего произведения: «Все здесь, на станции и в поселке, было построено на этом мягком белом камне, люди работали в меловых карьерах и шахтах, получали меловые, перепачканные мелом рубли, из мела строили дома, улицы, устраивали меловые побелки, в школах детей учили писать мелом, мелом мыли руки, умывались, чистили кастрюли и зубы, и, наконец, умирая, завещали похоронить себя на поселковом кладбище, где вместо земли был мел и каждую могилу украшала меловая плита».
Когда мы пишем мелом достаточно долго, как Соколов, он стирается без остатка. То, чем мы пишем, становится тем, что мы написали: орудие письма превращается в его результат, средство оборачивается целью. Материя трансформируется в дух самым прямым, самым грубым, самым наглядным образом.